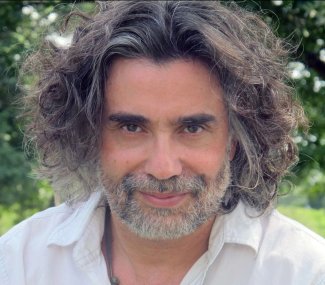В сборнике Strong Opinions (интервью, эссе и пять авторских статей о бабочках) Владимир Набоков высказывает поразившее меня суждение: «Время без сознания – мир низших животных; время плюс сознание – человек; сознание без времени – некое ещё более высокое состояние». По сути и применительно к поэзии, в этом высказывании – отражение трёх форм поэтического мышления: 1) поэты, которых сознательное, повествовательное, разумно-логическое не занимает (заумь футуристов, значительная часть иррационального в поэтике обэриутов Введенского и Хармса, и т. д.); 2) поэты, реализующие себя в конвенциональных стихотворных формах и содержаниях; 3) поэтическое сознание – вне времени, при осуществлении мыслительного/интуитивного прорыва в область бессознательного: просодически, ритмически, аллитеративно, алеаторно. К слову, по гипотезе Жака Лакана бессознательное структурировано как язык. Поэтом этого третьего типа, с определёнными оговорками, я бы назвал бывшего ленинградца, бостонца с 28-летним стажем Игоря Кураса. Прежде всего, в его поэтике временная координата, практически, отсутствует, а линеарность времени не обязательна («Дни бывают короче, бывают длинней – / только всплеск от горячих подков: / будет снова купание красных коней / в закрепителе прежних веков»). В его текстах, практически, нет хронологии событий; не всегда легко понять, в какое историческое время они написаны и почти отсутствуют знаки, по которым можно бы догадаться о свойстве времени быть протяжённым, и о перетекаемости времён из прошлого через настоящее в будущее («Знай, / что выходящий из трамвая / не видит ждущего трамвай»). При взгляде с такой фаустовской дистанции, проявляется и определённая метафорика, которую я бы сопоставил с традицией метареалистов 1970-80-х, когда несущие конструкции мира становятся и его сущим, и его не-сущим («погасшую вдруг сигарету / в губах пустоты?»; «Чтобы цифры создавали целое / на автомобильных номерах; / чтобы время – существо бестелое – / хоть на время – потерпело крах»; «и солнце, что ходит с востока / смотреть на росу»; «А вечность – / жёлтенький цветок / и шмель, / уснувший в сердцевине»; «И, застрявшие в лифте вдвоём в темноте, / вдруг обнявшись, уйдут в облака – / но вернутся к кипящей воде на плите, / понимая, что живы пока»). Метаморфозы. Не то, чтобы полное устранение/«остранение» Хроноса, однако лишение его прописки по метафизическому адресу легко вступает в перекличку с фигурами речи поэтов из других времён, причём монтаж здесь, в духе кинематографа Тарантино, вероятен самый неожиданный – сцепляясь не столько по сути, сколько по намёкам, родимым пятнам, оставленным внутри текстов: «Мой постановщик снов, / ты не получишь Оскар – / на твой сюжет громоздкий – / посмотрит богослов / как модник на обноски – как генерал на вдов» (И. Курас) – «Не надо мне ни дыр / Ушных, ни вещих глаз. / На твой безумный мир / Ответ один — отказ» (М. Цветаева). По литературной форме и по концентрации смыслов сентенции у Кураса близки к стансам, по-крайней мере, в этой подборке, да и по просодии – музыкальной форме – это рондо, когда главная тема проходит рефреном, чередуясь с отличающимися друг от друга эпизодами. Отсюда, и «Девчонка сгребает в поднос деловито / тарелки и вилки — из вазы цветок, / и кажется будто: вино недопито, / и жизнь – dolce vita, и век – Belle epoque»; и «... бессмертье, в сущности, утопия – / смертных коллективная вина», с саркастическим, в бесконечность удаляющимся финалом: «и было дел невпроворот / и больше даже». Это очень даже благодарное дело – читать Игоря Кураса и входить в его тексты, как в лабиринт, из которого сам позже не захочешь выйти. Автор объясняет, почему это может произойти, и за что при таком поэтическом раскладе благодарить: «за жизнь перед смертью – скупую науку, / за наше сегодня, за ваше вчера».
Геннадий Кацов