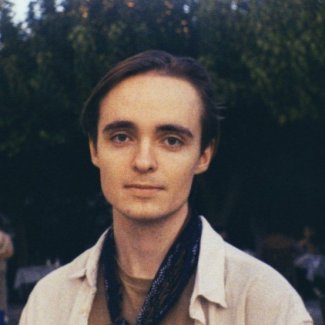На первый взгляд, да и на второй, в поэтическом цикле Василия Трегубова «Жизнь цветка. Тетрадь стихов» прослеживаются интонации восточной поэзии и философии, причём речь может идти и о форме в восточной традиции (тетрадь, циклы сказаний, восточный диван, означающий сборник/собрание, и пр.). Мне хотелось бы сделать акцент на японской поэзо-философии, поскольку у Трегубова через весь цикл проходит тема отсутствия, тема Ничто. Конечно, можно говорить и о западной традиции со времен Парменида, об учении о космической пустоте Демокрита и Левкиппа, о Божественном ничто немецких мистиков или о трансцендентности Канта с вещью-в-себе, которую невозможно познать – в этом плане западную философию ХХ века упущу, поскольку никакого здесь места не хватит. И все-таки, Трегубов в своей поэзии – это не западная, а японская традиция отсутствия («Посмотри, как прекрасны без нас / мы вдвоём»), для которой характерны представления о миге, как сжатой вечности («Будь прежним, будь вчера, / не превращайся в завтра»), о точке, как свёрнутой Вселенной; о Мироздании, как мировом океане и феноменальном мире, как его всплеске («и говорятся / речной волной – слова»). О странной связи единого и единичного, что порождает, как японцы называют, трёхполюсную, или трихотомическую логику. В ней, в отличие от дихотомической Гегелевской (тезис, антитезис, анализ, синтез), сохраняется единство разного, или как говорит современный философ Тэранака Хэйдзи, эта логика – «диалектика абсолютного ничто». Определение такого места и времени действия у Трегубова звучит в лингвистической форме эллипсиса, смыслового пропуска, ухода в окончании последней строки в никуда: «Здесь слово пребывает не в начале, / но как обозначение конца. / И, если смерть бы здесь не замечали, / то так бы и сидели»). Короткие строфы, лаконичные строки, сжатые до атома слова. Из такой формы выходит и соответствующее содержание: «Нам никогда не стать / большим, чем сумма строк». Отсюда и философия иллюзорности мира, насмешки над нами окружающих симулякров; мнимости, как в гештальте, всего происходящего: «Не покидает ощущение тюрьмы, / такой большой, что можно обмануться / отсутствием стены перед глазами». Об этом краткие записи в тетради, с минимальными лирическими вставками и мистическим ощущением исчезновения себя в каждом миге: «я ложился на мир невесомый как память / и лежал ни секунд ни веков не считая». Собственно, в этом и есть, видимо, «жизнь цветка», о чём автор предупреждает уже в названии цикла. Надо сказать, что сквозная тема Слова, его появления и исчезновения, ухода в ничто, напомнила о рассуждениях современного математика Эдуарда Френкеля (в работе Is The Universe A Stimulation?) о том, является ли нас окружающее реальностью или симуляцией? Френкель говорит о том, что если бы поэт не написал стихотворения, то оно никогда бы не появилось в мире – никто в будущем не смог бы воспроизвести Шепот, робкое дыханье. Трели соловья, Серебро и колыханье. Сонного ручья, не напиши этих строк Афанасий Фет. А вот если бы Пифагор не доказал, что его «пифагоровы штаны на все стороны равны», то за прошедшие более, чем два тысячелетия, обязательно кто-нибудь нашёлся, кто бы пифагоровы теоремы доказал. Таким образом, мир, созданный логосом – открытый словами – уникальней, чем мир математических открытий. Удивительным образом, поэзия Трегубова соединяет неповторимость слова с бездной Ничто, вместив это невместимое в небольшую тетрадь, концентрированно – в восточной традиции.
Геннадий Кацов