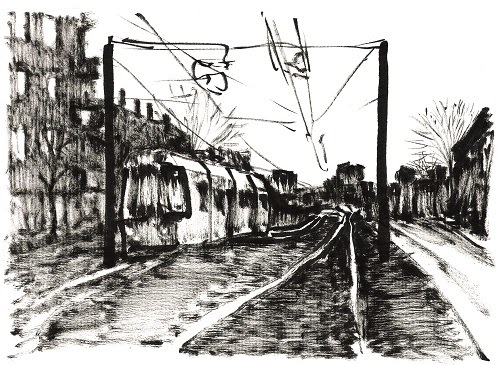Алексей Гамзов пишет, как мыслит, как чувствует, как видит. А мышление его парадоксально и образно, глаз цепок, тезаурус богат. Его поэтический взгляд чаще всего несколько отстранён от метареальности, создаваемой в стихах, авторское «я» располагается за пределами внутреннего пространства стихотворения. Его поэтическое око – это, скорее, око проницательного исследователя, замечающего такие подробности, на которые сам читатель вряд ли обратил бы внимание. Его перо временами становится лексическим скальпелем, расщепляющим реальность до атомов. И даже страсть в поэзии Алексея Гамзова это какая-то почти невозмутимая страсть. Но читать Гамзова, вникая в его роскошную образность, глубину и точность смыслов – истинное, гурманское удовольствие. Это как совершить путешествие на другую поэтическую планету и ощутить, что бывает и какое-то совершенно иное состояние поэтической материи.
О. Г.
~
Дуэт гармошки и терменвокса
для тела, плавленного из воска –
сыграй Землянку, что в три наката,
или Смуглянку, да в три стаккато.
Дуэт жалейки и укулеле
для тела, что стало легко, как гелий –
сыграй про этого, с Малой Бронной,
как он погиб, да и друг евонный.
Стучите ложками, люли-люли.
Сжигает ложь меня, ранит пуля.
Здесь, где торчим мы, как вылепленные –
молчали павшие, выли пленные,
а нынче снова племя идёт на племя
и страны Третьего Рима не склеит программа «Время».
Услышь, как на берег снова идёт Катюша,
пока я тут прогибаюсь, мельчаю, трушу,
услышь: пусть снесёт, как снарядом, крышу,
пока у детей ворую, у предков крышу,
пока мы тухнем по утлым кельям
в обнимку с Марфой али Лукерьей,
пока хороших эпоха мин при плохой игре
стоит, осклабившись, на дворе.
~
Как стриж от сентября до мая
в чужом краю
витает, дома не свивая –
так я не вью.
Ведь всё-таки, при трезвом взгляде,
из мест земли
отрадней берег тот, тебя где
произвели.
Ведь всё же, если без притворства –
тот край главней,
где стал потомком, дашь потомство:
держись корней.
Листом берёзовым под пальмой
лежать и преть –
изнанка жизни пасторальной:
по сути, смерть.
Но помести навек в Россию,
закрой маршрут –
я столько счастья не осилю:
сгнию и тут.
И я, и стриж не без причины
в пути всегда:
не можем мы и без чужбины –
и без гнезда.
~
По небу, что Ван Гог
мог написать, полого
(в такую ночь сам бог
обязан быть Ван Гогом)
летит, как лепесток
фигурный спутник НАСА
(так ангела бы мог
нарисовать Пикассо).
Как завещал Шагал,
он мчит во мгле без газа
и с помощью зеркал,
шлифованного глаза,
из-под железных век
на Землю, где от веку
чем лучше человек,
чем хуже человеку –
взирает.
Скор, красив,
из бездны опен спейса
он вперил объектив
работы Карла Цейсса
и наблюдает вид
угла, где столб фонарный
и человек висит
геостационарный.
~
Про зверей из тех, что
не еда
мне хватает текста
едва.
Ходом чёрных через
чёрный ход
зверь имеет дерзость –
идёт.
Кони ходят рысью,
рысь – конём:
этакою близью
рискнём.
Как орлом пятак не
пал на пол,
пятаком не звякнет
орёл.
Вот он, страх лесной и
полевой,
вот он, поклик совий
и вой.
Кандидат на мясо,
на бобах,
дожидаюсь часа
впотьмах:
за квасной, скоромный
альфабет
переломит кто мне
хребет?
И не ты ли, Боже,
с полстроки
всадишь мне под кожу
клыки?
~
Слабо ли в райские врата,
не причинив себе вреда?
дух оперировать без боли
слабо ли?
Слабо, витийствуя – рожать?
о братстве петь – из-под ножа?
фабриковать, вскрывая вены,
катрены
о смысле сущего? Слабо в
двух пулях выразить любовь,
сказать, мол, верю и надеюсь,
прицелясь?
Слабо не обломать перо,
построчно потроша нутро,
дословно на Сибирь, меся грязь,
ссылаясь –
источник счастья и обид,
что столь же чист, сколь ядовит?
Короче говоря, слабо ли
на воле?
Любимая, прости меня:
и жить без этого огня
невыносимо, и, тем паче,
иначе.
Я сам себя загнал, засим
я сам себе невыносим,
и – чудо – лишь тебе, постылый,
под силу.
Герой
Место временное, время местное, шесть ноль-ноль.
Герой уже на ногах и готов ко своей голгофе.
Он жарит сосиски, разрезанные повдоль,
пьёт то, что он называет кофе,
подходит к двери, на ходу вспоминая пароль.
Но в энном акте, в такой-то по счёту картине
становится ясно, что пьесе не будет конца.
Взгляд застывает на праздно свисающем карабине.
Зритель уходит. Герой опадает с лица.
Марионетка преломляется посередине.
Потом герой убирает грим, угадывая в морщинах:
довольно ли на этого мудреца простоты?
Пока такой же герой, по ту сторону пустоты,
весь в амальгаме, как свинья в апельсинах,
ватным тампоном закрашивает черты.
Следующее «потом» наступает скоро:
по телу героя гуляет улыбка породы Чешир,
герою душно. Он смутно любит открытый ворот.
И вот водолазка сорвана, летит в окно, как нецелый Плейшнер,
падает и накрывает город.
По этому поводу немедленно наступает ночь.
Герой не спеша рассценивается, как светило,
которого нет, а за окнами так, точь-в-точь,
как в куда, знатоки говорят, не пролезть без мыла.
Рот уже на замке, но зевоты не превозмочь.
Теперь герой настолько раздет, что уже ни капли
не напоминает свой собственный всем известный фотопортрет:
какая-то ветошь, использованные прокладки, пакля.
Наконец, герой раздевается полностью, превращает себя в скелет
И вешает себя в шкаф до следующего спектакля.
~
Ты кончишь работу и кончишься сам,
но это не повод для скорби;
всё то, что ты здесь проповедовал псам –
метафора urbi et orbi –
оно адресовано, в общем, тому,
с кем всё это будет впервые:
и чувств передоз, и услада уму,
и длани, и перси, и выи.
Представь: он вещает, задействовав рот,
такой из себя гениальный,
но так же подвержен гниению от
гипофиза до гениталий,
а там уж и следующий адресат
маячит, с младенчества смертью чреват.
Расхристанной жизни рисунок твоей
коряв, как партак моремана:
вот птица в скрещении двух якорей,
марина (зачёркнуто) анна,
но в тихом сердечке иссинем твоём
очерчен какой-никакой окоём,
а значит, неважно, что гулко от псов
(кому проповедовал) лая,
что партию лет, и недель, и часов,
безудержной стрелкой виляя,
дотла отстучит пресловутый брегет.
Все это – не повод для скорби, поэт.
~
Норму вещей расшатав, как зуб,
думая, врезать в лицо кому б,
вырвался, экий квасной Колумб:
Санта-Мария, Нинья.
Пинту портвейна открыл я, как
будто Америку, где ништяк.
Сделан глоток, перекроен флаг,
выбиты к чёрту клинья.
В дикое море, на чей ковёр
нету узора, не лег колёр,
правлю, расхристанный Христофор –
не ожидали? Хер вам,
ибо простит мне мой злобный бог
робкие рифмы, корявый слог,
обиняки, экивок, зевок –
но не утрату нерва.
Правлю свои корабли, как текст
во избежание узких мест
правят, как правят сквозь тёмный лес
твёрдой рукой кобылу.
Вызнать бы, кормчий, чей флот рассеян,
где обрывается сей бассейн.
Кровь, закипай. Истекай, портвейн.
Жизнь, доверяй ветрилу.
~
Оседая, я крикнул: «Бежи!»,
что подразумевало: «Немедля,
беглый взгляд на оседлую жизнь
бросив, двигай отсюда, земеля.
Свою молодость, жимолость жил
расстреляв из пращи ли, пищали,
оседаю, как будто не жил –
прощевай же, парнишка прыщавый.
Оставайся хоть ты молодым,
никогда не сыграющим в ящик.
Я запомню тебя таковым –
без грядущего, но настоящим.»
~
Метемпсихованный, битая аватара,
жертва солнечного удара и лунного перегара,
членовредитель, неумных детей родитель,
пастух разведёнок, подонок, небокоптитель,
преданный зритель и никогда не автор
с тайной тревогой вглядывается в завтра.
Это не сила, это, от силы, слабость,
просто душа носилась, верней, слонялась
по алфавиту донизу, до э-ю-я,
и – по-стрекозьи, до верхнего «до» июля,
да позабылась прелесть пути кривого,
вот и «жим-жим» теперь. Хочет начать ab ovo.
Жидкого монгольфьера возьми в баллонах,
бахни за тех, чья вера – рубить бабло, нах:
им ли с тобой сидеть, оседлавши крышу,
с тайной тревогой, как сказано было выше?
Им ли желать себе паровозных топок,
чтобы хоть дымом – на воздух, в эфир, в оффтопик?
И коль нечем крыть, чем не повод рубить канаты,
утекая в место, где предки лежат, брадаты?
Как Господь хипповал, а потом наповал, бедняга,
так и ты замыкай, оставляй самый кайф, бумага,
ибо кто ты есть, как не лист, отлетевший с крыши,
на котором, пока летишь, наконец, напишут.
Гумилев-Ахматова
–Твоя фамилия, – мне говорит подруга, –
звенит, как будто упала на пол кольчуга,
и всё мне слышится некий гам,
и всё мне чуется некий зов,
её хочу я прибрать к рукам:
наверное, это и есть любовь.
–Твоя фамилия, – я говорю, – подруга,
шуршит, как сбруя – уздечка, кошма, подпруга:
принадлежа к кочевым врагам,
вошла железом под русский кров,
и с той поры обитает там,
и мало краше на русском слов.
Но, как считаешь: остались ли мы бы нами
под небесами новыми – под новыми именами?
~
Всё, чего хочу достичь я –
деревянного обличья
(что-то вроде корабля)
в день, когда меня зароют
в этот чёртов астероид
под названием Земля.
Нет от сих до дали дальней
положения сакральней
положения во гроб.
Не без жатвы после сева:
со времён Адама с Евой
самый массовый флэшмоб.
Никакая не ошибка
крепко сбитая обшивка,
схороняющая тлен,
и напрасно небо кроет,
мглою бурен, истероид –
бурый холм ему взамен.
Я же невозможность рая
что ни час, осознавая,
примиряюсь, что ни час:
тем, кто умер затворённо
(то есть умиротворенно),
удостоен пары фраз
и прикопан – счастье. Счастье –
не на части, не в санчасти,
не в огне, не в облацех.
В век разлада вот награда:
сруб соснового разряда.
Так что больше мне не надо:
лечь в футляр – уже успех.
Полифем
1
Полковнику Никто не пишет Полифем:
во-первых, он слепой, и, во-вторых, зачем.
В его краю, в раю бараньем и козлином
вольно было ему, пугающему – «съем» –
пленённых морячков, сидеть перед камином.
Он чуял ли? – судьба прикинулась никем,
чтоб будущность его прибить горящим дрыном:
бывает, верх берёт полон над исполином.
Припомнить бы пейзаж, цвета, предметы, лица,
но главное – его, сияющий фетиш.
Он солнцу говорит: «Ты светишь ли? Свети ж…» –
и, как жерло, в зенит вздымается глазница,
в котором солнце всё могло бы поместиться,
но что-то вроде слез сейчас мерцает лишь.
2
Со мной произошёл козлиный гимн,
сказали бы ахейцы-острословы,
теперь мои страданья образцовы,
и даже хор теперь не нужен им.
Повержен переросток-овцепас:
валялись дураки, а также дуры,
горланили козлы, смеялись куры.
И верно: не имев обычных глаз,
я, скромно заселявший свой сим-сим,
имел во лбу мечту любого мага,
и не стерпел огня – я не бумага.
Теперь я вровень с автором своим.
~
Закольцован в плеере у Творца
этот various artist, надцатый трек.
Без конца, без физического лица
кружит, кружит песенка-человек.
Аллилуйя, песнь! правомочна спесь:
ты – блатная, то есть по блату здесь.
На шестой творенью настал венец.
Посему, храбрясь, обрести тот свет
полагает всякий на сём жилец,
не по чину тая, сходя на нет.
Мол, проступит кость, догниет нутро,
допоёт припев – и опять интро.
Да ведь так и будет, хвала Творцу.
Что твореньям розно – ему одно:
знай обтачивай, крась, оверлочь, торцуй
да крути шарманку, айпод, кино.
Мнится нам, что пойдём вразнобой на хлам,
но ему-то каждый – един Адам.
~
Ну-ка, память моя, кругом.
Предъяви её, ту, по ком
умирал, лаская
что посмел бы назвать соском,
если б не было то звонком
на воротах рая.
Ту, которую всю, везде,
и в ромашках, и в резеде,
и пестом, и дланью –
оживи её, ту, мою,
о которой всё думаю
вопреки сознанью.
От которой сводило пах,
от которой сам воздух пах
спермацетом, миррой,
ту, которую на руках,
ту, что нынче пою в стихах –
о, реанимируй.
Ну и пусть – хоть слагай, хоть вой –
что из прошлого ни ногой
та, одна на землю:
облик, ощупь, дыханье, вкус
воскреси. Растворяюсь. Вьюсь.
Истекаю. Внемлю.
~
Идёт слепой, как дождь идёт слепой,
с протянутой в грядущее рукой,
нащупывая в ранящем грядущем,
куда идёт невидящий идущий.
Стучит клюка, как дождь, стучит клюка,
во мраке растворяется рука,
и в этот час ночной слепому равен
любой из тех, кто на глаза исправен.
Слепой уходит, слепотой храним,
и мысль о нём уходит вслед за ним,
потом приходит вновь и остаётся,
постылая, как жизнь на дне колодца.