Беседа Дмитрия Бураго[1] с поэтом и переводчиком Павлом Грушко
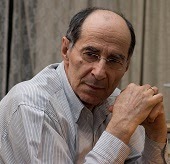
Павел Грушко (род. 1931) – российский поэт, драматург и переводчик прозы и поэзии (преимущественно с испанского и английского языков) и эссеист. Родился в Одессе. Окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков (1955) со специализацией по испанскому языку. Автор пьесы-либретто «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» (по мотивам Пабло Неруды), которая с музыкой А. Рыбникова стала первой российской рок-оперой в театре «Ленком». Много переводил с испанского поэзию и, в меньшей степени, прозу и драматургию разных стран, в том числе Луиса Гонгору, Федерико Гарсиа Лорку, Антонио Мачадо, Хуана Рамона Хименеса, Октавио Паса. Преподавал поэтический перевод в Литературном институте им. М. Горького. С собственными стихами дебютировал в 1950 г., однако первую книгу выпустил только в 1999 г. Автор стихотворных сборников «Заброшенный сад», «Обнять кролика», «Между Я и Явью» и «Свобода слов». Некоторые стихи Грушко написаны по-испански. Стихотворные пьесы Грушко опубликованы в его антологии «Театр в стихах». С 2001 г. живет в Бостоне (США). Член Союза писателей СССР (1965). Один из основателей и вице-президент Ассоциации испанистов России. Международный член жюри по жанру поэзии на Кубе (1967) и дважды в Панаме (2002, 2012). Автор арт-концепции «Trans/формы» (теория и практика художественного перевода как метод перевоплощения в разных жанрах искусства).
Подборка стихов Пабло Неруды «Написанное вдали от родины» (в переводах Павла Грушко) опубликована в самом первом номере журнала «Эмигрантская лира»[2].
Дорогой Павел Моисеевич! В восьмидесятых годах благодаря стараниям моего отца, Сергея Борисовича Бураго, Ваше творчество стало частью жизни всей нашей семьи, а мир превращений и предсказаний замечательного кубинского поэта Элисео Диего в Ваших переводах заполонил наш дом. В Москве Вы издаёте «Книгу удивлений» Диего, а отец устраивает громкую её презентацию в Союзе писателей Кубы с участием симфонического оркестра и декламацией его стихов на испанском и русском.
Потом Вы прилетели в Гавану и материализовались в одного из самых близких нам людей. Я с тёплой радостью навожу пунктиром юношеские воспоминания. Сколько поэзии, музыки, солнца и – удивительный Павел Грушко, автор пьесы-либретто к первой рок-опере в СССР – «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты»!
Сегодня, спустя почти сорок лет, я с гордостью благодарю Вас за поэтические чудеса, случившиеся в суматошном времени моей гаванской юности.
С чего началась Ваша литературная испаниада? Как открывалась Вам литература Испании и двух десятков стран Латинской Америки?
Началось всё с изучения испанского языка на переводческом факультете Иняза на Остоженке[3], куда я поступил в 1950 году. К этому приложил усилия и увещевания отец моего одноклассника Игоря – Пётр Сергеевич Бычков, бывший парторгом данного вуза. Он понимал, что Павлику с отчеством Моисеевич в том году «борьбы с космополитизмом» будет непросто поступить куда-либо. Он только деликатно попросил написать в анкете, что я украинец. Я немного поартачился, но стал по анкете «украинцем Грушко», в качестве которого пребывал до смерти Изверга в марте 1953 года, после чего с облегчением стал писать в пятых пунктах анкет правду. Ведь моя фамилия не только украинская, но и еврейская.
Поступавшие в институт, если хотели сменить язык, изучавшийся в школе, могли выбрать итальянский либо испанский. В школе я учил немецкий и выбрал для изучения испанский, оставив немецкий вторым. Очень жалею, что не выбрал тогда вторым английский. На выбор языка определённо повлияли романтические воспоминания о событиях Гражданской войны в Испании. Кстати, в 1940 году, когда я отдыхал в «Артеке», туда привезли шумную стайку испанских детей. Одна необыкновенно красивая девочка до сих пор сидит рядом со мной на фотографии.

В «Артеке» с девочкой-испанкой[4].
И ещё угнездились в памяти акварельные виды Альгамбры во французском альманахе «L´Illustration» за 1912 год, купленный моим отцом, Моисеем Иосифовичем Грушко, до войны. Как и другие старорежимные вещицы, которые отец выуживал в комиссионках, дистанцируясь таким образом от советского шума. Когда я побывал впервые в этом мавританском замке в Гранаде, у меня сложилось впечатление, что я там бывал раньше.
Надо сказать, что при всех опасениях Петра Сергеевича, вызванных политикой государственного антисемитизма, сам Иняз той поры являл истинное содружество «детей разных народов», и евреев там было немало, особенно девочек на педагогических факультетах. Ректор института, незабвенная Варвара Алексеевна Пивоварова, бывшая во время войны политруком, отстояла многих. Вместе со мной учились известные впоследствии переводчики, лингвисты и журналисты «с пятым пунктом»: Генрих Туровер, Юрий Кацнельсон, Владимир Беленький, Вадим Поляковский, Леонид Золотаревский, Лев Штерн, Илья Левин, Женя Аронович. Прошу извинить меня за этот «еврейский акцент»: талантливых неевреев в инязе той поры было гораздо больше: Игорь Можейко (Кир Булычев), Владимир Силантьев, Андрей Сергеев, Владимир Рогов, Александр Махов, Вячеслав Куприянов, Григорий Кикодзе.

С Киром Булычёвым (Игорем Можейко) в Инязе.
Испанских книг в то время было мало. Я с жадностью покупал в букинистических магазинах «всё испанское», это были диковинные издания, но – связанные с Испанией. На третьем курсе я начал переводить стихи испанца Хуана Рамона Хименеса и чилийца Пабло Неруды. И ещё – немудрёного, но поразительно искреннего, жившего в Москве, эмигранта Хулио Матеу. Большую поддержку моему увлечению оказал преподаватель газетного перевода Семён Александрович Гонионский. Он позволил выбрать для курсовой, что было неординарно, вместо политических текстов, стихи Неруды, которого, к слову сказать, я увидел впервые во время его посещения нашего Иняза в 1952 году.

Пабло Неруда в Инязе в 1952 году.
Я был в кабинете Элисео Диего (кажется, это комната первая слева от входной двери), когда они с отцом говорили по-английски. Сергей Борисович только осваивал испанский, а Элисео русского не знал. Мы с мамой, почти ничего не понимая, сидели поодаль от письменного стола, где оживлялся разговор. В какой-то момент отец перешел с английского на русский, а Элисео вернулся на испанский. Они говорили почти хором, поддерживая высказывания друг друга. Мама спохватилась: «На каком языке вы сейчас говорите?» И Элисео, к восторгу отца, немедленно ответил по-английски: «На том, самом главном!»
Как Вы думаете, о чем они могли говорить?
Возможно, о сути поэтического творчества. Элисео Диего на протяжении многих лет в интервью, эссе и стихах объяснял, что он пишет стихи, потому что у него нет другого выхода, что главное – делать хорошо то, что ты умеешь хорошо делать. И ещё они могли говорить о Времени, которое явно или тенью присутствует в стихах Диего как мистическая сущность реальной сиюминутности и непостижимой Вечности, осмысление которой печалит нас и волнует осознанием бренности существования. Его стихотворение «И вот настала Вечность в Понедельник…» – любимейшее.
И вот настала Вечность в понедельник,
и день за ним почти утратил имя,
а третий день был вовсе упразднён.
Ни шорохов, ни плеска не осталось,
растаяло любимое лицо,
никто не явится, напрасно звать.
К привычкам нашим Вечность безучастна,
что красный цвет, что синий, – всё едино,
ей серое милее – дым и пепел.
Ты имя с датой выбьешь на граните,
а Вечность их заденет недовольно, –
и вот уже от скорби ни следа.
Но я не отпускаю понедельник,
тобою нарекаю день за ним
и кончиком горящей сигареты
пишу по мраку ночи здесь жил я.
Одобрение твоего отца моих переводов из Диего, высказанных в его выступлениях, статьях и лично Диего, невероятно меня обрадовали. Ведь Диего не знал русского языка и не мог оценить качество моей работы. Я также горжусь дюжиной его переводов моих стихов, уж тут я могу свидетельствовать о высочайшем их уровне. И позволю себе привести мой сонет, посвящённый Диего и переведённый им на испанский язык.
ВЕСЫ
Кубинскому поэту Элисео Диего
Всё крошится, всё клонится к нолю,
то разрастётся, то увянет снова,
а я – дитя неведомого зова –
зачем родился, мыслю и люблю?
Попав нежданно в эту колею,
где я останусь муравьём былого,
быть может, я вмещу в облатку слова
небесный звук – и тем себя продлю?
На плахе жизни, в торопливой смене
поспешных жестов и обыкновений
молчишь. Но вдруг, в качанье вечных чаш,
на неустанном этом коромысле
забьётся слово, тёплый отсвет мысли,
разумный звук, застенчивая блажь.
О ремесле переводчика. Когда Вы были у нас дома в Киеве, то не раз открывали «Толковый словарь русского языка» Ушакова и увлечённо листали его, так что я не удержался от любопытства. И услышал в ответ: «Это же самое интересное и важное чтение! Ты сам пишешь, разве можно при этом не заглядывать в словари». Действительно, судьба слов дольше и шире человеческой судьбы. Миллионы и миллионы уст передавали их из поколения в поколение. Толкование, история слов кажутся непостижимыми, взять хоть бы односложные «стол» или «речь».
У русского языка много подвохов, исключений из правил. В разговорной речи то и дело проскальзывают неправильные употребления слов, неверные ударения. Особенно в поэзии необходимо быть начеку. Смени ударение в слове миловать и получишь два разных смысла: ми́ловать в значении щадить, прощать вину и милова́ть в значении проявлять любовь, ласку. Один более, чем видный поэт написал амфибрахием в стихотворении о Неруде «Ваш а́рест в Сантьяго…». А ведь аре́ст. И я ошибался, считал, например, что слово остуда синоним прохлады, а смысл этого слова – похолодание в отношениях, размолвка. Когда находил такое в ранних своих стихах или переводах, не успокаивался, пока не публиковал заново исправленный текст. И с удовольствием делился подобными промашками со своими студентами в Литинституте.

Беседа Павла Грушко со студентами.
Конечно, улица, которая, что называется, ведёт сражение с литературным языком, в итоге побеждает. Но писатель, поэт, насколько это в его силах, должен защищать литературный язык. Не терплю мнения – «в поэзии можно». Нельзя. Посиди, подвигай слова, найди синонимы, загляни в словари – орфографический, литературный, толковый, Даля, этимологический, обратный Зализняка, синонимов, словарь языка Пушкина. Всё это сегодня есть в Интернете.
Как Вы справляетесь с этим грузом, когда речь идет о переводе? Парадигма «раб – соперник» исчерпывающая?
Искусство перевода – это искусство трюка, обман во спасение, «ловкость рук и никакого мошенства». Нет при переводе стихов фото- ксеро- и других видов копирования. Это не технический перевод, оперирующий общепонятными терминами, числами, формулами, научными и иными данными.
«Буря мглою небо кроет / вихри снежные крутя…», по сути, непереводимо из-за иных состояний света, температуры и влажности в других регионах. Да ещё каждое сообщение в стихах облачено в ту или иную форму, которая является дополнительным содержанием. Я придаю большое значение формам, которые делают произведения более долговечными. Мой доклад, на одном из Московских международных конгрессов переводчиков, назывался «О чём взывают формы русской поэзии».
Главное, условно говоря, чтобы эти сосуды были абсолютно прозрачными, как будто вино само придало себе форму кувшина. Лев Выготский определил это как «развоплощение материала формой». То есть, когда, например, в скульптуре у мрамора отнимается его «мраморность» и возникает «Похищение Прозерпины» Джованни Лоренцо Бернини.
Не забыть, что каждый текст в оригинале излучает сопутствующие контексты, недоступные читателю перевода. Рядом со столом, упомянутым Вами, теснятся в русском подсознании столешница, столовая, столоваться, и т.д, которых нет у его испанского родственника, вернее родственницы – mesa. Нет в испанском языке и столешницы, то есть, она реально есть, но обозначается двумя словами: крышка стола.
Что же делать? Ввязываться в сражение. Художественный перевод – своего рода культурная эстафета, продвижение из прошлого в будущее, с некоторым преобразованием, плодов человеческой культуры. По мысли Михаила Бахтина это – «сотворчество понимающих», на очередном этапе которого появляется человек со своим, несколько иным опытом, неизбежно отражающимся на пересказе.
Вы прекрасный поэт, но первая книга стихов «Заброшенный сад» вышла только в 1999 году. Почему спустя столько времени?
Спасибо за похвалу. Книга эта вышла в 2000 году, но мне хотелось задержаться в минувшем веке, вот и проставил в выходных данных 1999 год. Причина позднего выхода первой книги, полагаю, в том, что я был занят «по уши» переводами. А в дальнейшем драматургией. Причём переводы были не только заказные, но и те, что я выбирал сам. Многие из этих любимых работ до сих пор в столе. Одни по этике того времени, другие по эстетике, не укладывались в убеждения и планы издателей.
Рукопись моих собственных стихов мне три раза возвращали из издательства «Советской писатель» с рецензией «стихи неплохие, но требуют доработки», что в переводе с «совписовского» на русский означало «раньше, чем через три года чтобы ноги твоей здесь не было». А в издательстве «Молодая гвардия» мою рукопись стихов о Кубе «Открытие Нового Цвета» припечатали рецензией «слабо отображён кубинский рабочий класс». Кое-что публиковалось в прессе. И вышли в переводе на испанский книжки моих стихов в Испании, Мексике и Перу. А в 1994 году я был награждён золотой медалью Альберико Сала по жанру поэзии на литературном конкурсе в итальянском городе Безана-Брианца. Один итальянский друг, взяв эту медаль «на зуб», решительно подтвердил, что она из настоящего золота!
Знаешь, Дмитрий, в последние годы, я регулярно выставляю в Интернете свои стихи, некоторые из которых были написаны в 60-е годы. Оказывается, они до сих пор живы, получают много одобрительных отзывов. Потому, думаю, что сложены правильно, да простится мне моя нескромность. Вот одно из них, 1964 года.
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ
Петру Вегину
В тридцать три (а из них одиннадцать проспаны),
в тридцать три (в эти сальдовые двадцать два)
в угол загнанный каверзными вопросами,
от которых кругом идёт голова, –
так надменно улыбку и мнения носишь,
а в душе нарастает глухой камнепад:
эти влажные – с яблочным топотом – ночи,
эти губы, что чутко у губ твоих спят, –
просто так?
Просто очень удачливый случай?
Просто – вынутый белою мышкой за грош
полуграмотный перечень благополучий?..
В тридцать три ты покоя себе не даёшь:
кто ты есть, что успел в этом кратком горении,
в этом промельке синем из праха во прах?
Как работалось, что получилось из Времени,
побывавшего на твоих верстаках, –
в тридцать три?
Кстати, здесь упоминается Время с большой буквы, то же что и у Элисео Диего, а я ведь с ним и его стихами познакомился лишь через два года. Не это ли понятие-Время нас сдружило?

С Элисео Диего в Москве.
«Заброшенный сад» Вы подписали нам в Киеве. Расскажите о Вашем Киеве. О Вашем Булгаковском Киеве. Гордимся, что первая публикация опыта стихотворного прочтения романа «Мастер и Маргарита» – «Было или не было…» – увидела свет в нашем киевском литературно-художественном издании «Соты».
Впервые в Киеве я побывал в 1939 году, когда мне было восемь лет. Там жили мои дедушка с бабушкой по отцовской линии, тётушки, двоюродные сёстры и брат. Мы там были проездом в Чуднов-Волынский, родной город отца.
Дедушка и бабушка погибли в Бабьем Яру. Они не хотели эвакуироваться, полагая, что немцы, если и захватят Киев, будут теми же обходительными немцами, что и в Первую мировую.
Был я в Киеве также вскоре после войны, возвращаясь из Крыма, видел руины Крещатика.
И, конечно, вы – семейство Бураго, ваше гостеприимство и участие в моей литературной деятельности – вернули мне обаяние Украины, интерес общения с Киевом. Это было связано с радостью от публикаций в «Сотах» моих стихов и первого издания моего стихотворного переложения «Было или не было…» булгаковского романа «Мастер и Маргарита», и от посещения булгаковских достопримечательностей.
Но и с печалью было связано, когда вы пригласили меня на первое в постсоветском пространстве поминание нашего Элисео Диего в прекрасном Доме Актёра.
«Мне в Америке английский не нужен, здесь все говорят по-испански», и обращаясь к продавцу в первом же магазинчике, Вы находили полное понимание. Спасибо Вам за Бостон, без Вас он слился бы с озабоченными Чикаго и Нью-Йорком, а с Вами – сказочный город. Наверное, встреться мы в любом другом – он тоже преобразился бы. Я плохо помню достопримечательности Бостона, но какой занимательный был Ваш рассказ! Мне даже показалось, что Вы просто осваиваете другой континент, это такой опыт любознательности, влюбленности. По Бродскому: «Любовь – имперское чувство». Прошло пятнадцать лет, как мы встретились в Бостоне, стал ли английский язык ближе?
С бытовым английским всё так же «никак».

У книжной лавки в Бостоне.
Конечно, в любой ситуации я всегда могу объясниться с помощью переводчика в айфоне. Однако английский, в основном, важен мне как язык поэзии, к переводу которой меня привадили в шестидесятые годы Алексей Зверев и Андрей Сергеев. Тут я не испытываю больших затруднений. Почти вся основная американская и английская поэзия есть в Интернете в переводах на испанский. Эти переводы плохи по форме, так нынче переводят на испанский, да и на другие языки. Но они почти безупречны – по содержанию, представляя собой замечательные подстрочники. А как воплотить содержание в соответствующую форму – дело техники.
Как сейчас складывается Ваша жизнь в Америке? Ощущаете ли Вы себя эмигрантом, может это для Вас – своего рода долгосрочная творческая командировка или нечто подобное? Помнится, в Эстландии Северянин называл себя дачником…
Мы – моя жена Мария и сын Кирилл – живём в скромных по американским меркам, но вполне достойных условиях. Сын, выпускник московского РГГУ, связал себя с работой в области перевода, жена – художник-оформитель книг, в том числе и упомянутой Вами «Книги удивлений» Элисео Диего. Я за время пребывания в Америке написал и издал в России ряд антологий и отдельных сборников. Главные – три книги стихотворений, антология пьес «Театр в стихах», антология испанской поэзии «Облачение теней», признанная лучшей книгой 2015 года в жанре поэтического перевода, антология Пабло Неруды «Сумасбродяжие» и двуязычная антология «Поэты Панамы» в Панаме, где я дважды был международным членом жюри по поэзии. Самая дорогая мне публикация – изданная год назад санкт-петербургским издательством Ивана Лимбаха «Поэма Уединений» великого испанского поэта XVII века дона Луиса де Гонгоры-и-Арготе в моём «тёмном», как и его «тёмные» барочные стихи, переводе.

С женой Марией Кореневой в Бостоне.
Немаловажно то, что в мои 89 лет я нахожусь под неусыпным бесплатным наблюдением замечательной американской медицины, и могу до сих пор продолжать здесь своё творческое дело на благо русской культуры и моих соотечественников, где бы они ни жили.
Мир стремительно меняется, рассеиваются и мельчают смыслы, перетасовываются сюжеты, глобализация вошла в фазу карантина, и только ленивый не предрекает грядущих преобразований и катастроф. Какие перспективы у литературы следующих поколений? Что будет происходить с нашей поэтической речью? Сохранится ли читатель, как вид мыслящего, ищущего и удивляющегося человека? Или?..
Может быть, когда-нибудь человечество сподобится телепатического способа общения, утратив речь звуковую. Но и тогда останется свойственная творческим людям метафорическая и музыкально-ритмическая образность мышления. И знаковое – на разных носителях – отражение их мыслительной деятельности.
А в ближайшей перспективе – по Элисео Диего – просто надо делать хорошо то, что ты умеешь хорошо делать.
[1] Информация об авторе опубликована в разделе «Редакционная коллегия» (стр. 5).
[2] Пабло Неруда. «Написанное вдали от родины» (в переводах Павла Грушко). – «Эмигрантская лира» n°1/2013.
URL : https://sites.google.com/site/emliramagazine/avtory/grushko-pavel/pavel-grushko-1-1
[3] 1-й Московский государственный педагогический институт иностранных языков (почему-то имени Мориса Тореза).
[4] Все публикуемые здесь фотографии переданы Павлом Грушко из его личного архива.
