Дарью Ривер я знаю давно, она много лет ходит в близкое мне ЛитО «Пиитер» в Санкт-Петербурге. С годами стихи Дарьи сильно менялись, становились сложнее, более ёмкими. Они часто – жёсткие почти до жестокости, всегда болезненные, практически «на грани крика», в них библейские сюжеты перемешаны с новым временем. В эти стихи надо «войти» как в некое новое состояние. Начавший их читать, вряд ли останется равнодушным: слишком чувствительный, возможно, отложит, понимающий – дойдёт до финала и перечитает ещё раз.
Дмитрий Легеза
* * * На стояние Марии Египетской приходили глазеть менты. На стояние Марии Египетской первое было апреля И под запахом ладана и наркоты Мы играли во время службы в «верю – не верю». Мы играли во время войны, мы играли в войну. Мы сидели под юбкой Марии, не шелохнувшись, Сознавая испанский стыд, всеобъемлющую вину, И никто не мог наш союз разрушить. На стояние Марии Египетской именины выпали мне – Словно снег, словно бомба из детской ладошки. Приходили глазеть менты, как в царство теней Боль уползала подвздошная. Начинали читать житие – мы легли ничком, Ухватившись за ноги преподобной. И была нам Мария – троянский конь, И от Ихтиса на ступне еë несло воблой. В окна церкви стучалось облако, не дыша, В окна церкви случалась жизнь, наших душ не зная, Но когда Марии подошло нас рожать, Мы не убоялись тех, кто пришёл за нами, Кто пришёл увидеть, как на пол грохнемся, как Переспелые яблоки – и заплачем. На стояние Марии Египетской ночь была велика, Но и та оказалась – на сдачу. * * * И плита на кухне – как склеп, и холодильник – как гроб. А по улице – священник с дароносицей, и несть в ней Даров: Дефицит, воровство и другое – берут своë. И, как гроб, холодильник, и петух в его чреве поëт. Я жила в дароносице той – утробой она мне была, А потом – трубой, что высасывала враньё из горла. Яйцом мне была – пасхальным и золотым, Берегла мою душу и голову за алтын. Подхожу к петуху – по тюремным законам за перегородкой речь завожу, «Как Христос ты воскрес?» – вопрошаю, из него же – поллюции, кровь и жу. «Отчего, – вопрошаю, – не вышел?», смотрю на склеп, Приготовленный поваром тем, кто лежит во зле. Здесь конечная остановка, дальше – только ползком. Прижимаюсь к стëклам оконным, трогаю их соском. Ведь к кому бы ни шëл священник – свернëт сюда всë равно, Потому что петух – один и яйцо – одно. В неответе тягостном петушином – кровавый плат. Достаю из холодильника перец, редис, салат, И плюëтся плита мертвецами, зовя их на брачный пир, И поëт петух, и голос его хрипит. * * * Агнцы падали в протяжной ночи. Агнцы падали, что огненный град. У меня из-под рубашки – лучи, А у неба не хватает ребра. Стадо терпит, разбиваются лбы. Разливаются пустые моря. Плачь, Эль Греко: и глаза голубы, И слеза – в рубинах и янтарях. На рассвете-то, поди, будет снег, На рассвете в небе ранка видна. Что за трапезой предложено в снедь – То ни ангелам, ни бесам, ни нам. Рвутся с хрипом облака над Невой, Бдят в зияющей дыре пастухи. Сонм апостолов – на передовой, Да верëвка любит шею ольхи. Любит, нет ли – и ромашка летит Мне в ладонь – на гробовую доску. Кто спасëт еë – столбом по пути? Вечной памяти махровый лоскут. Заплетается весенний язык, Обнимается с моею роднëй. Звëзды бисером – приказ и призыв, Чтобы агнцев съели солнечным днëм. * * * – Что же дрожишь одна – без детей, без мужа? – Плодоносить смоковнице не пристало. Впрочем, когда хочу говорить устами, Смотрят за мною сотни слепых оружий. Только и остаëтся, что дух да сердце. А не страшилась раньше ни сна, ни смерти. После же, как проснулась однажды в марте, Глядь: нельзя алконосту в гнездо усесться, Ангел-хранитель мой рядом с ним, и лика Не разглядеть – за крыльями ли, за ночью. Перья обоим огненный ливень мочит В новорождённой весны неживом крике. Вот и боюсь с тех пор, что умрут со мною. В них – вся семья моя – на гнилом закате. Нас у моста ждëт «Не рыдай Мене, Мати» – То, что и пот и слëзы на время смоет. Здесь каменисто место, и живы камни. – Здесь только лëд зимы. Приходи, погрейся. – Мне на поминки тесто с утра замесят, Мама, твоими срубленными руками. * * * Мать шелестит молитвы в потный пол, Вдова отца шьёт ритуальных кукол. В окне – снарядом разнесëнный купол – Осколок лет на боли голубой. Адмиралтейство, и твоя игла Пронзит очеловеченное тельце. Мать шелестит: «Умойся и оденься, И сядь, и не вставай из-за стола». Иконы кровью верных моросят, Из них глядят простреленные вуду. До завтра отключили свет и воду. И не вставай. И в туалет нельзя. Вдова отца, портниха – джинсы Lee, Рубашка ярко-красная навыпуск – Не беспокойся, Бог тебя не выдаст. Великий пост. Успели феврали. Я дотянулась до престола дня. День – голову на грудь Христу, на плаху. Ко мне – слепнями – птахи, птахи, птахи – И хочется их стиснуть и обнять. Ломает пол двуглавая змея, Светясь, как спичка, как торшер, как солнце. Никто в квартире этой не спасëтся, Лишь кукла вуду – маленькая я. * * * И душа моя – верблюдова, Да и грудь – горбы с вином. Место звëздное – безлюдное, Лишь закрытый гастроном – Пуп вселенной заблудившейся. Раньше в нëм – тюрьма, ШИЗО. У пустыни и Всевышнего – Гроб и свадебный камзол. У верблюда – электричество Между небом и душой. Растоптав к святым приличия, Чëрт орудует ножом, С пацанами низкорослыми На вино моë косясь. Под седьмою под коростою – Рай, где мусорка и грязь, Где рожает птицефабрика Алконостов для суда, Где маляр замшелым валиком В церкви выведет: «беда», Где поминки девять месяцев И Петрополя глаза. Я живу под старой лестницей, Как пастух мне наказал, Запивая сонм таблеточный Кровью, хлынувшей в окно. Стиснув горло красной ленточкой, Бродит по миру вино. * * * Иерихонская роза ветров стоит посреди зимы. Подойти и обнять, сорвать, принести домой. Иерихонская роза ветров хочет меня умыть И дать мне спелый лимон, Чтоб согревал ночью бессонной, чтоб сок свой в меня пускал. Это – кровь розы, которую не стереть. Она помнит четырёх всадников и пятого седока, Встретившего в песках свою смерть. «Пятым пыталась быть ты, преступая устав, Но пожалели тебя – и вот ты здесь». Ветер шумит в пустыне, в прибрежных кустах – Всюду шумит, направляясь к звезде. Всюду шумер. В ангельских трубах рождён. Роза – сестра его единоутробная, как говорят. Только история смыта лимонным дождём, Который шёл здесь сорок ночей подряд. Подойти и сорвать – как голову отрубить, Спросив Саломею да Иродиаду с ней. В небе над нами – не вороны – голуби, И небо от них ясней. Роза стоит, как столпница, и молчит. Рядом застыть, взглянуть на звезду. А у звезды – такие лучи, Что понимаешь: ты – уже не в аду. * * * Оторвали фарфоровой кукле башку с утра. Кровь пульсирует, жмëт, только течь ей – невмоготу. Путеводной звездою – блестящий, слепящий тук. До последних земли – ненасытный скрипучий тракт. По седым проводам медным воском, смолой – Лилит, Превращаясь в змею Гиппократа, в эдемский луг. Пальцы тянут из мышцы засаленную иглу, И горчит перекрестием с травами эвкалипт. До последних земли – стадо тучных смурных волов. Мне на шее поставили фирменную тангу, Чтобы внутренний волк – ни гу-гу, ни кукареку. Даже небу, впрочем, не хватит кирпичных слов. А вдали – скорый поезд призывно трубит подъëм, Ангел правит им в полдень дождливый, лишëнный глаз, Но на рельсах – с шести – плод собачий, что не предаст, Если съесть его – яблоком спелым – в аду, вдвоём. Я проснусь в подземелье, и вывеска возгласит: «Дом родильный такой-то». Напрасно ль метнулась в мир, Где главу Иоанна – младенчикам на помин? Горечавка затявкала в сердце толпой лисиц. * * * Я спускалась в метро, как в кишечник кентавра, Я искала своë отражение там, Но вагоны заполнены ночью китами, Не достигшими станции «Новый Адам» И кишечник, китами кишащий, курлычет, Словно приговорëнный к расстрелу птенец. Ни свинца, ни полстопки, ни сил, ни отмычки. Распахните же эти врата, наконец – Я войду в них, как тать, как в убежище – бомба. Санитары навряд ли успеют спасти. Из груди моей с тысячей рвов и пробоин Вырывается тот, кто меня не простил. Не достигшие станции – добрые, злые, Возлежавшие к вечери или во тьме – Пусть Кощей распродаст по осколку иглы им, Чтобы каждый был рад за душой поиметь. Отражение – в сердце метро отзовëтся, Напряжëнная мышца умрёт до утра. Райским деревом на эскалаторе – стронций, Только знает. Кентавр. Что туда. Не добра. * * * И когда в тир теней попадает святой махаон, Из варюг перешедший в греки, Отстаëт стекленеющий пот от столетних икон И в темницу к Григорию – жирный немой Гамаюн – Под икоту дождя, одолевшего чëрную реку, Овдовевшего заполночь, за Вифлеемской звездой. Махаону – вода и милость Да всемирное чëрное мыло. Я – рукою – за купол, другою же – за престол. Прозябает, обуглившись, церковь в сторожке пустой. Джан, последняя бабочка жизни моей во зле, Как на правом глазу – бельмо, так левый – прицельно слеп. Се, подходит ко мне сатана по имени Иоанн: Он куëт из дождя голову в Петрополь и Ереван. «Иоанн! Иоанн! Иоанн!» – кричу, просыпаясь. Тень толкает на гору останки памяти и Креста. У меня – медовые волосы, луковые уста. Под землёй – клетка бабочек, девственна и чиста. * * * Пришла, как молния в ночи. «Ну что же, здравствуй, дом Торгома! Да победят твои лучи Оцепенение и кому, Что ныне – тесные врата И мне, и всем, во мне живущим. Толкает каменный алтарь В холодный ад немытый грузчик. Скажи, где упокоен ты, Куда нести гвоздики-иглы? Но инородные цветы Сквозь тишину во мне возникли: «Войди, сорви и воскреси!» Гора, покрытая горою. И солнце в облаке висит, Мня колыбель-купель устроить Тому, что было, и прошло, И стало капельницей в море. Нас покрывает тонкий шлейф, Который – древа райский корень. Не опустей, истлевший дом! Се, в мир грядëшь, тысячеглавый, Но пепел и сиротский дым Зарëй выходят на облаву. Так встанем вместе до поры, Когда подвергнут остракизму Звезду – замаранный нарыв». * И мы очнëмся после казни. * * * Разевала земля пасть, чтобы камни живые глотать, Выходили из пуза еë Змей Горынычи, домовые, И стояли, как мëртвые, с четырёх сторон столпы огневые, А под ними – река – безголовой ящерицей, где не воды – ртуть. Пузо – полон котëл, и козлы сдаваться идут В оголтелый полон, где правит пастух безгласный, Где пощады просить – пронзительно и напрасно, Только овцам – дверь и дорога, и проводником – Иуду. Как войдëт проводник в жерло плацкарт – Вся честная компания встретит: Горынычи и другие, Да сияет им с неба звезда Панагия, Да ведëт на плацдарм – Там цветок Армагеддон прорастает к заре – В снедь животным, в причастие верным, Заполняя собою земли каверну – Камни – братья и сëстры ему, отец – Назарет. Громыхает каменный поезд, летит состав, Вяло ноет сустав его – тамбурный да колëсный, И возносит земля свой костыль железный До неопалимого до куста. Оседлай, домовой, козла, во Иерусалим веди – Пусть тебя хорошо там встретят. Разевала земля пасть, талдыча о смерти, Лился дождь из еë материнской груди. * * * Красный лес, да наречëшься домом молитвы. На поляне – жертвенник, и медведь на нëм. Наши души в сосуды твои драгоценные влиты, Опалены огнëм. У медведя – кольчуга, и шлем, и латы, Только это не укроет и не спасëт. Мы стояли с ним – в очереди за Христом – к Пилату, А на вëрсты – пустыня и чернозём. Мы стояли – заслонкой живою, Защищая алтарь. Дышит камень Алатырь, принявший ранение ножевое, – Сердце чисто ему отдай. Красный лес, да будет жертва непорочна, свята, блаженна, Да из семени еë прорастëт Новый стебель, не дрогнувший от всесожжений, Прободивший мне рëбра гвоздëм, Начертавший конец войне, неподсудный. Красный лес, положи меня к медвежьим ногам. Вот встают перед нами – икона, фреска, парсуна, И на каждой – лицо врага.
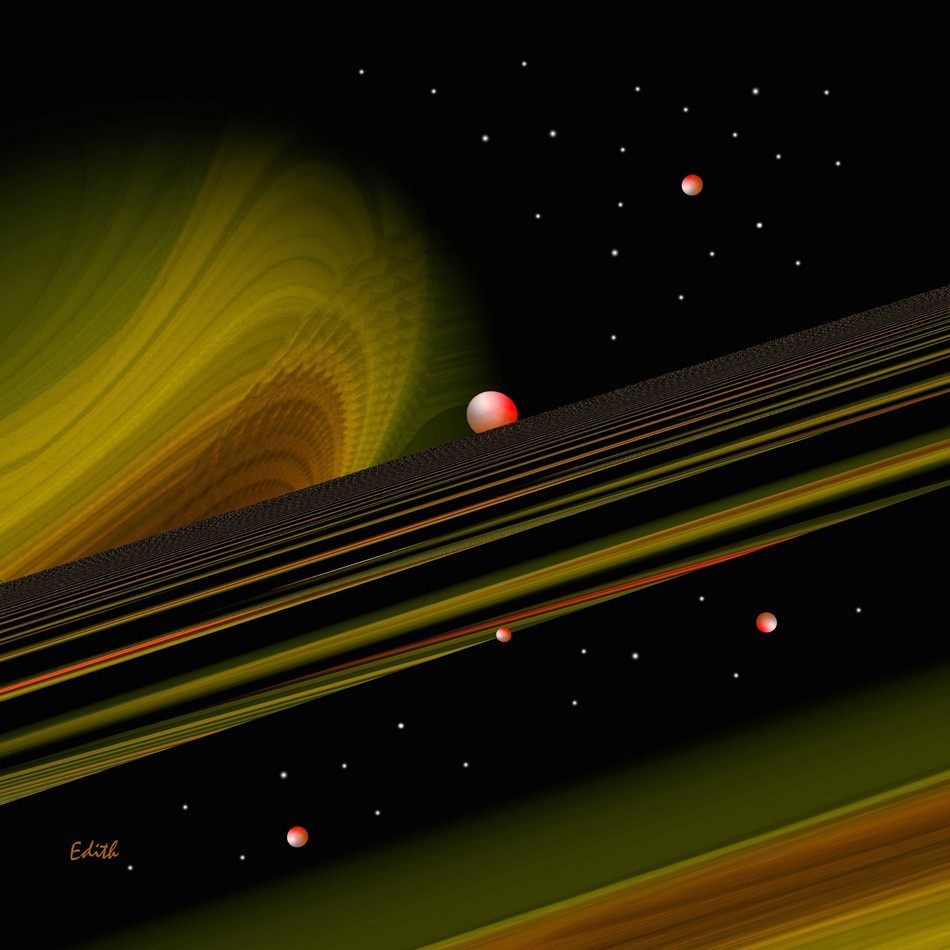
Компьютерная живопись; 40 на 40 см.
