XXI век, куда судьба милостиво забросила меня зрителем ложи бенуара (а могла бы и сбросить с галёрки ещё в ХХ-ом) изобилует спектаклями — красочными, как оперы Верди, но и кровавыми, словно хроники Шекспира. При всех остатках моих амбиций, на сцену уже не тянет, не тот возраст, но и так не соскучишься... Как там один из наших, рослый такой, горластый в преддверии Первой Мировой голосил: «Ах, закройте, закройте глаза газет!» А потом уже не только из газет, война отовсюду лезла на человечество... Так, на заре жизни пыталась покомкать мою судьбу Вторая, да всё-таки отпустила пожить, а сейчас, глядишь, ближе к закату разгорается ещё одна, Третья, совсем уже Апокалиптическая. Как это людям не надоест убивать и мучить друг друга? Как они умудряются в себе подобных увидеть врагов?
– Живём в небратстве, вот где наша беда, – примерно так высказался книжный мудрец Николай Фёдоров, знакомец того самого Толстого, который «Войну и мир» нaписал, и того самого Соловьёва, который «Добротолюбие» проповедал. По фёдоровской философии, общность людей может и должна заключаться именно в братстве, а их общее дело есть не больше и не меньше как воскрешение умерших отцов, иначе говоря, борьба против главного врага всего человечества – самой Смерти. В этой непредставимой на «нормальный» взгляд выдумке поражает, во-первых, её безоглядная интеллектуальная храбрость, на шаг вперёд опережающая веру в великое чудо Воскресения. А во-вторых, изумляет представленный там практический план действий, чтобы эту анти-войну осуществлять всеми институтами общества. В нём есть конкретно изложенные задачи для Армии, Церкви, Науки и даже для Искусств. Вот этот последний институт, вкупе с Культурой, мне интересен более всего. Ведь ему предписано создавать модели воскрешения!
Как сказало Наше Всё в своём вольном переложении из Горация: «Душа в заветной лире мой прах переживёт и тленья убежит». Душа, быть может, и убежит, а тело? Ведь ему всё равно суждено истлеть в земле, пусть даже и памятники наставлены по городам, и собрания сочинений, трактаты, цитаты без счёту? И, хотя это уже как бы бессмертие, но всё-таки до полного воскрешения, увы, не дотягивает...
Обидно также, если общее дело находится в прямой зависимости от литературной моды. Сколько таких кумиров пало! Как это типично бывает, сначала не замечают, затем ругают, потом превозносят, а потом... Потом – помер, и тут же забывают. Правда, не без исключений.
В сущности, все искусства на то и направлены, чтобы стать исключением. Как там сказано у любимого поэта моей давней молодости, которого, наоборот, сначала лично превозносили, а потом общественно изругали досмерти – впрочем, не за стихи, а за прозу: «Искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь». Он и сам попытался в своём великом и злополучном романе сотворить нечто более, чем литературу, а именно, чуть ли не буквально по фёдоровскому лекалу, создать модель воскрешения. Не знаю, надо ли здесь называть его всемирно известное имя, но на всякий случай назову. Конечно, я имею в виду Бориса Пастернака. И действительно, его герой, бедный влюблённый доктор (с целительным именем Живаго), потерявший всё – возлюбленную, социальный статус, профессию, в эпилоге умирает даже в памяти друзей, даже в прямом потомстве, чтобы воскреснуть в самом конце книги как поэт «в заветной лире», – иначе говоря, в сборнике великолепнейших, христианнейших стихотворений. Там он эмблематически кратко обозначает формулу своего творчества:
И образ мира, в слове явленный, И творчество, и чудотворство
Не о подобном ли поёт и другой чародей, – имя его не столь на слуху, но в наше время всё более оживает интерес к нему, увы, посмертно. Этот чародей – Михаил Кузмин. Им написана-наколдована магическая поэма о форели, разбивающей лёд. А верней – об утонувшем возлюбленном и о двенадцати ударах сердца, его воскресающих. Не совсем ясно, воскресающих кого: самого утопленника или, все-таки, его фантом? Вот бьёт одиннадцатый удар:
– Ты дышишь? Ты живешь? Не призрак ты?
– Я — первенец зеленой пустоты.
– Я слышу сердца стук, теплеет кровь...
– Не умерли, кого зовет любовь...
– Румяней щеки, исчезает тлен...
– Таинственный свершается обмен...
– Что первым обновленный взгляд найдет? -
– Форель, я вижу, разбивает лед
С двенадцатым ударом новогодней полночи происходит радостное чудо.
На мосту белеют кони,
Оснежённые зимой,
И, прижав ладонь к ладони,
Быстро едем мы домой.
Нету слов, одни улыбки,
Нет луны, горит звезда –
Измененья и ошибки
Протекают, как вода.
Вдоль Невы, вокруг канала, –
И по лестнице с ковром
Ты взбегаешь, как бывало,
Как всегда, в знакомый дом.
Два веночка из фарфора,
Два прибора на столе,
И в твоем зелёном взоре
По две розы на стебле.
Слышно, на часах в передней
Не спеша двенадцать бьёт...
То моя форель последний
Разбивает звонко лёд.
Живы мы? и все живые.
Мы мертвы? Завидный гроб!
Чтя обряды вековые,
Из бутылки пробка – хлоп!
Места нет печали хмурой;
Ни сомнений, ни забот!
Входит в двери белокурый,
Сумасшедший Новый год!
Каноническая духовность заведомо отвергает эти волшебные, чарующие образы как волхвования или же как заигрывания с надчеловеческими тайными силами, ровно так же, как не принимает она и дерзкое, а по сути христоподобное учение Николая Фёдорова. Но нельзя не признать, что в нём сходятся попарно главнейшие оси человеческого существования: Жизнь и Смерть, Любовь и Творчество.
Хотя противостояниe жизни со смертью существует извечно, в русскую поэзию сюжет их спора, или «двоесловия», забрёл из переводов с немецких текстов XV века. И обрёл новую жизнь в многочисленных переложениях, лучшим из которых я считаю «Прение Живота и Смерти» поморского писателя Бориса Шергина из его «Древних памятей».
Живот рече: – Ох, увы, увы! О, Смерть, неужели я умру и не будет меня, точно меня и не было?! Смерть рече: – Сребролукого Феба пленивый и всепетую Афродиту низложивый Исус Христос, над богами Бог, и Той вкусил мене, горькую смерть, и в мрачный сошёл Аид. Живот рече: – О Смерть, власть твоя над людьми и богами! На что тебе трепетная моя юность и бледная моя красота?! Смерть рече: – День гонит ночь. Скоро кочета звопят. О Живот! Время тебе снятися с души — и умереть…
Помимо старославянской архаической лексики, столь подобающей для этого мрачного средневекового текста, Шергин использует здесь особые обороты речи. Этот простонародный, но свежий и красочный говор сохранился и прочно законсервировался на русском Севере, несмотря на газетный новояз, – уж не в силу ли холодного климата? Помню его с детства в устах моей няни Фенечки, Федосьи Фёдоровны Федотовой, взятой в нашу семью из деревни Тырышкино Архангельской области. «Свет Фёдоровна, мне тебя забыть ли?» – процитирую свою же эклогу в её честь. Её словесные образчики, «тырышки», ловкие, как печные ухваты, годились и для того, чтоб разбранить баловника, и чтоб расшевелить лентяя.

...Какая избяная да печная
была ты, Феничка; твой – строг уют.
А кто ко мне зашёл, садись-ка с нами:
– Ешь, парень! Девка, ешь, пока дают!
И, разойдясь перед писакой, тоже
туда же сочиняла (кто – о чём)
полу-частушки и полу-колажи,
складушки-неладушки, калачом:
«Ведягино да Семёново
к лешему уведено,
Бор да Тарасово
к небу привязано,
Шишкино да Тырышкино
шишками запинано»
То – все твои гулянки-посиделки
на Кенозере. Там я побывал.
Краса, но вся – на выдох, как и девки,
что хороводом – на лесоповал...
И у Шергина в его более мажорных текстах – и в уморительных сказках в эдаком берестяном стиле, где, к примеру, работая в одной артели, «царь и ише один мужичонко исполу промышляли», и даже в суровых поморских сказаниях — оживает язык древний и одновременно свежий, образный и в то же время прямой и честный, — иначе говоря, тот русский язык, который не врёт. Репутация фольклорного писателя, жившего в Москве в разгар эпохи соцреализма, помогла ему сохранить «провинциальную» искренность и чистоту. Среди его разнообразных шедевров мне стала особенно по душе его лирическая повесть «Митина любовь», написанная, видимо, в параллель одноименной повести Бунина. Место действия Соломбала, пригород Архангельска. Одинокий корабел знакомится в театре с молодой особой, которая кажется ему «на взгляд — тихая заря поздновечерняя».
«Грозу» Островского представляли… Вместе ахнем, вместе рассмеемся, а слова за сто рублей не сказать. В антракт осмелел:
– Не угодно пройтись в фойе?
– С кем имею честь?…
– Такой-то.
– Марья Ивановна Кярстен.
И в слове и в походке она мне безумно нравится. У ей все так, как я желаю.
– Что на меня зорко глядите?
– Очень вы, Марья Ивановна, ненаглядны. Только во взорах эка печаль…
– Оттого, что родом я со печального синя-солона моря…
– У меня тоже не с кем думы подумать, заветного слова промолвить. Марья Ивановна, мы другой вечер рядом сидим, вы меня вчера заметили ли?
У ней и смехи на щеках играют, оглядывает меня.
Экипажецка рубашка,
Норвецкой вороток.
Окол шеечки платок,
Словно розовый цветок!
– …Ну, как вас не заметить?
– Это я для вас постарался, гарнитуровым платком повязался.
А в последнее действие уливается моя соседка слезами:
– Люблю слушать, как занапрасно страдают…
– Любите, а эдак плачете.
– Я сама в том же порядке.
Проводить не дозволила, одна убежала.
На третий день представленья не было, только дивертисмент музыкальных номеров. В мире звуков рассказываю Марье Ивановне, что-де у меня мамы нету, сам хлебы пеку, тесто жидко разведу – скобы у дверей и у ворот в тесте…
А она:
– Говорите, говорите!… Я потом вашу говорю буду разбирать, как книгу.
– Марья Ивановна! Мы по своим делам часто в Соломбале бываем. Дозвольте с вами видаться!
– Да что вы! Ведь я замужем!
Как нож мне к сердцу приставила…
– Дак… от мужа гуляете?…
– Гуляю? За пять лет замужества случаем в театр попала… С добрым человеком поговорила… Может, до смерти нигде не бывать…
– Теперь эта неволя отменена.
– Неволя отменена, да совесть взаконена!
– Вот вы наделали делов – бросаете меня… Куда я теперь?!
И начинаются «Страдания молодого Вертера» на архангелогородский лад: поиски беглянки, метания, расспросы о ней у соседей...
– Мужняя жена. Замужем живет, честь наблюдает. Муж-то пьюшшой, хилин такой. Она мукой замучилась, а уж ни с кем ни-ни… Сама портниха, рукодельница…
– Эх ты, Машенька Кярстен! Навела мне беду!…
...ошибочный адрес, недоразумения, перипетии, отчаяние и — в отличие от суицидальных концовок Гёте и Бунина, великих предшественников Шергина — добротный «мещанский» хеппи эндинг, вышибающий невольную слезу умиления и тёплую волну благодарности автору. Какую-то большую недобрую силу он этой концовкой перебарывает. Не зря же его «Прение Живота и Смерти» имеет неожиданную альтернативу «Смерть не всё возьмёт — только своё».
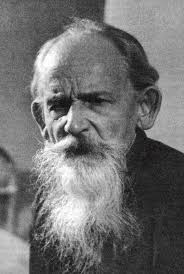
А вот отставного солдата из сказки «Куроптев» даже смерть не смогла взять. Написанный в том же «сказовом» стиле, этот шедевр уже снискал читательские восторженные отзывы. Присоединяю к ним и мой.
Куроптев навоевался, по окопам навалялся, всех вшей досыта накормил, тогда службе еговой срок вышел. Можот итти на все четыре стороны, куда любо. У Куроптева ни кола, ни двора, ни милого живота, ни образа помолицца, ни верёвки задавицца, ни ножа, чем зарезацца.
Досмерти уставший бедняга встречает на дороге путника (а это был сам Бог), и тот из сочувствия отправляет его живого прямо в рай. Там он не уживается (без понюшки-то табаку каково), и его прогоняют в преисподню, где он тоже оказывается не ко двору...
Опеть значит Куроптев, куды глаза глядят, бредёт по дороге. У птицы гнездо, у зверя логовишше, а ему, человеку, негде глава подклонить. И на стрету ему опеть тот человек, такой хорошо одетой. А это был сам Бог:
– Койду, Куроптев, пошёл?
– Да вот, Осподи, из аду выгонили.
– В раю тебе было неладно, и в аду нехорошо... Што я с тобой буду делать?
– Осподи, мне бы где ли на часах постять.
– Куды тебя, Куроптев, девашь... Видишь, вон около ростанья будка наружна. Становись, охраняй! На зиму тебе тулуп выдам и валенки.
Ещё один счастливый конец и ещё одна, пусть сказочная, ироническая, «по знакомству», но – победа над смертью! Не удивлюсь, если Куроптев до сих пор в той будке стоит на часах в сильно потраченном тулупе и стоптанных валенках, охраняя какой-нибудь имперский хлам. Даже странно, что Бориса Шергина не подняли на щит и не сделали жупелом нынешние ультрапатриоты, – видимо, чем-то он им не подходит. Но и в Лету он, давно почивший, кануть не собирается. Пусть же наша похвала вызволяет его оттуда! Память и похвала, похвала и память – вот спасательные круги в мрачных водах забвения...
Именно так – «Похвала российской поэзии» – называется последняя, посмертная книга-эссе Юрия Иваска, написанная ещё в прошлом веке, но подходящая и к сегодняшнему дню с его отменой культуры, низвержением памятников и авторитетов. А на сторонний взгляд, наша всегдашняя беда совсем не в отрицании кумиров – с их позолоты надо хотя бы изредка стряхивать пыль и даже «проверять их на вшивость» – а в невнимании, небрежении, в забвении того, что грело душу, что было когда-то милым, родным и ценным.
Похвала «российской» – почему же не русской поэзии? Русской, конечно, но начиная не со «Слова о полку...», не с былин и фольклора на Руси, не с хлыстовских песнопений, а с авторской поэзии, каковой она уже стала в пишущей и читающей России. Это череда очерков о стихах и поэтах – очерков субъективных, как предупреждает с первой же страницы автор. Но субъективность эта идёт от великой приверженности, от — на всю жизнь – одержимости поэзией, начиная с отрочества и до последних дней. Какова же мера его вкуса? Чего он ищет в стихах? Вот как он пишет об одном из необходимейших для него свойств:
«Измерение поэзии – упоение. Поэт может быть мрачным, но не может унывать. Пример нигилизма от отчаяния у Георгия Иванова:
Хорошо, что нет царя, Хорошо, что нет России, Хорошо, что Бога нет.
На самом деле – и для поэта тоже это совсем нехорошо. Но здесь слышится, пусть и мрачный, н веселящий мотив песенки: «пропадай моя телега, все четыре колеса». Это – празднование великой беды, за которой светится какой-то проблеск надежды. Если есть такое упоение, значит, не всё пропало. Может быть, пессимистических стихов вообще нет. Поэты (повторю – в счастливых стихах – воскресители жизни, утвердители бытия».

Перелистаем начало книги, чтобы поскорей перейти от торжественных и неуклюжих гимнов и перво-виршей, через Осьмнадцатый век прямо к Золотому... Здесь нас ожидает много интересного, и прежде всего – иная, чем мы привыкли считать, иерархия, иные пропорции «храма русской поэзии». Здесь уже не царит одна абсолютная фигура, подобная французскому королю-Солнцу, окружённому бледным кордебалетом спутников и современников, как нас учили в школе и как нам вдалбливали поколения пушкиноведов. В «Похвале» Иваска на эту благостную картину прежде всего надвигается из предыдущей эпохи гигантская фигура Державина:
«Он гремел на российском Парнасе, когда громы метались преимущественно эпигонами. На фоне екатерининского общества – он невежда, дворянин необтёсанный, по-солдатски, даже по-мужицки грубый. Но он личность (как Потёмкин, Суворов). Пусть сумароковцы, карамзинисты мостят столбовую дорогу «среднего стиля» для Жуковского, Батюшкова, Пушкина, Боратынского. Державину – «наплевать». Он сам по себе... Державин из той же породы матёрых медведей, что и неистовый Аввакум, что и правдолюбец Толстой. Кости у русского языка трещат под их медвежьими лапами, но как в бане, на полке; и вот, вывалявшись ещё в обжигающем снегу, он, этот дикий русский язык – несмертельный голован, волшебный ванька-встанька расправляет измученное, могучее тело и, полной грудью дыша счастьем жизни и смерти, вякает по-аввакумовски, рявкает, гудит по-державински, звенит по-пушкински, лепит великолепные периоды Гоголя или же ищет выхода из дремучего леса причастий Толстого. Русской речи чуждо законченное совершенство французского способа выражения, но есть ли какой другой язык – его свободнее, выразительнее? Однако, после гимнов ему Ломоносова, Гоголя, Тургенева язык русский в похвале не нуждается! Иное – поэзия, особенно допушкинская, полузабытая...» Иваск восхищается богатырским великолепием державинского стиха.
«В «Званке» («Евгению. Жизнь Званская» Д.Б.) – мощь ямбов, мощь языка. У Державина-поэта мышцы обречённых исполинов древности, Геркулеса, Самсона. Всё – сильно – неповоротливо, косолапо и царственно-свободно. Всё – сильно и смертно... Пора, давно пора признать великого Державина единственным соперником Пушкина».
Легендарная передача лиры от гениев прошлого будущим гениям не проходила мирно. Более того – она проистекала в острой литературной борьбе между кружком Карамзина и Жуковского, названном с долей весёлого абсурда «Арзамасом» (поскольку в этом уездном городке Жуковского однажды угостили отлично приготовленным гусём) – и обществом «шишковцев», то есть «Беседой любителей русского слова». Арзамасцы весело издевались над ретроградами из «Беседы», в особенности над графом (и якобы графоманом) Хвостовым, зятем фельдмаршала Суворова. Юный Пушкин точил молодые зубы, высмеивая других участников «Беседы»:
Угрюмых тройка есть певцов – Шихматов, Шаховской, Шишков, Уму есть тройка супостатов – Шишков наш, Шаховской, Шихматов, Но кто глупей из тройки злой? Шишков, Шихматов, Шаховской!
Ай, как нехорошо: один академик, другой успешный комедиограф, а третий филолог и притом адмирал флота! Впрочем, над другими тяжеловесами из «Беседы» – тем же Державиным, Крыловым и тогда молодым Грибоедовым насмехаться не решались. Да и граф Хвостов, сенатор и член Государственного совета, был не такой уж графоман, – выражал знаки «отличного уважения» Пушкину (за ультра-патриотические стихи «Клеветникам России»), а жене поэта прислал романс на свои слова «Соловей в Таврическом саду» – Пушкины жили там рядом, на Фурштатской:
Пусть голос соловья прекрасный, Пленяя, тешит, нежит слух, Но струны лиры громогласной Прочнее восхищают дух. Любитель Муз, с зарёю майской Спеши к источникам ключей: Ступай подслушать на Фурштатской, Поёт где Пушкин-соловей.
Конечно, эпитеты банальны, а инверсия в последней строке неуклюжа, но – Таврический сад, соловьи, которых я сам слушал по ту сторону сада с открытым окном во время ночных бдений перед экзаменами! Во всём этом состязании архаистов с новаторами Юрий Иваск, как я понимаю, болел скорей за команду «Беседы», чем за «Арзамас», – он вовсе не считал, как другие литературоведы, что архаисты проиграли и остались в забвении где-то на обочине истории. Вот что он писал:
«Стилистику Державина пытался канонизировать адмирал А. С. Шишков (1758 – 1828) в своём замечательном «Рассуждении о старом и новом слоге» (1803). Этот «славяноросс» поучает: нужно «уметь высокий Славянский слог с просторечивым Российским так искусно смешивать, чтобы высокопарность одного из них приятно обнималась с простотою другого.» Иваск считал, что такой принцип в ХХ веке по-своему унаследовали Цветаева, Мандельштам и даже Маяковский».
Конечно, он отдаёт должное солнечному дару Пушкина и на многих страницах своей «Похвалы» воспевает его шедевры, выделяет в них дорогие ему особенности и анализирует пушкинские отзвуки в стихах и мировоззрениях современников, тогда и сейчас, в прошлом и будущем русской культуры. Но он трезво предупреждает:
«Пушкинское солнце – не без пятен... Вяземский осудил (и правильно сделал) стихотворения «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина»: не должен был Пушкин писать такие вот «шинельные стихи»... Самое тёмное пятно на пушкинском солнце – «Гавриилиада», куда более удачная по исполнению... недостойная шутка зубоскала–вольтерьянца.»
Что наиболее приметно в эссе о Золотом веке, это то, что поэты того времени для Иваска не просто «окружение Пушкина», не всего лишь бледные современники, а полнокровные творческие личности, яркие и своеобразные, порой даже более успешные соперники в состязании талантов. Кроме со-гениального Тютчева с его «громокипящим кубком» (а гений Лермонтова по-Иваску трагически не успел воссиять) и холодноватого Боратынского с его «строгим раем», тут у него и Денис Давыдов с рюмкой водки, и Катенин, и князь Вяземский, и Языков с «нелюдимым морем» и готовностью с ним «помужествовать», но и с очаровательно нежным обращением к пушкинской няне «Свет Родионовна, забуду ли тебя?» И Кольцов не забыт, и Каролина Павлова, и Фет, и Алексей Константинович Толстой, и многие, многие ещё авторы, блестящие или хотя бы поблескивающие золотом поэзии. Так, через Некрасова и Апухтина Иваск подводит нас к Серебряному веку, где развёртывает россыпь самоцветных гениев, никого, кажется, не забывая.
Юрий Иваск писал эти очерки много лет, публикуя их из номера в номер в эмигрантском «Новом Журнале» – это было время, когда в Советской России с трудом пробивались в печать исследовательские работы о многих опальных или полуразрешённых поэтах, так же, как и их произведения. Знания об этом периоде нового расцвета поэзии были односторонне ограничены. В этом смысле свободные мнения и оценки Иваска, опережая будущих постсоветских исследователей, представляли картину ценную уже своей своеобразной, хотя и мозаичной полнотой.

(окончание в следующем номере)
